
Как праздновали Новый год до 18 века - история праздника

История календаря очень древняя. Из глубины веков до нас дошли сведения о том, как люди счисляли движение времени, наблюдали смену времен года. Древние иудеи создали лунный календарь, однако, как свидетельствует Священное Писание, им было известно и летосчисление по солнечному году.
В соответствии с законом Моисеевым религиозный год начинался весной в месяце авиве (месяце колосьев), который после вавилонского плена стал называться ниссан. С этого времени отсчитывались и время проведения праздников, и годы правления израильских царей.
Гражданский год, как предполагают, начинался осенью, в месяце афаним (месяце постоянно текущих ручьев), который с IX–X вв. стал называться тишри (как и ныне по еврейскому календарю), от него отсчитывали годы правления царей Иудеи.
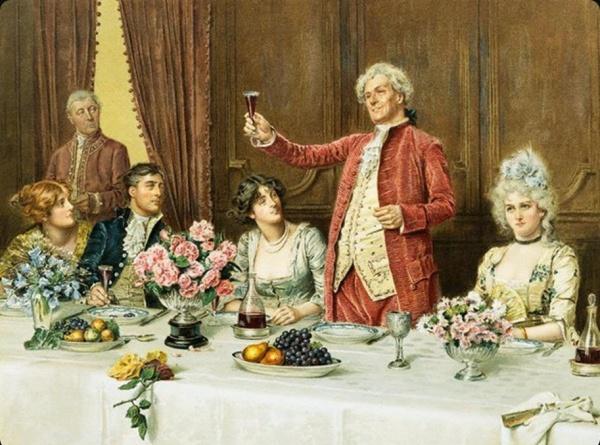
Празднование Нового года в марте было из ближневосточной традиции воспринято и римлянами. Так продолжалось до 45 г. по Р. Х., когда введением Юлианского календаря (при Юлии Цезаре) Новый год был перенесен на 1 января.
Встреча Нового года в этот день сопровождалась языческими празднованиями, которые назывались «сатурналиями».
Древние христиане воздерживались от участия в этом нечестии. Деяния Второго Турского Собора (567 г.) свидетельствуют, что в этот день совершались «искупительные богослужения». В древних сакраментариях для этого дня полагалась Литургия «против идолов».

У христиан новолетие 1 января было постепенно введено после 531 г., когда римский монах Дионисий Малый ввел летосчисление с Рождества Христова, которое было установлено 25 декабря.
Процесс этот, однако, был весьма длительным. Долгое время в Англии Новый год соединялся с праздником Благовещения, в Германии – Рождества, во Франции и Нидерландах – Пасхи Господней.
Окончательно новолетие было закреплено за 1 января после календарной реформы Папы Римского Григория XIII, когда вся Западная Европа перешла на григорианский календарь.
Однако Франция перешла на празднование Нового года 1 января только в 1594 г., а Англия – в 1752-м.
Григорианский календарь опережает юлианский (в нашем столетии на 13 дней). Православная Церковь не приняла этот календарь, чтобы в соответствии с постановлениями Вселенских Соборов не праздновать Пасху вместе с иудеями (на Западе такие совпадения случаются).
На Руси первоначально гражданский Новый год наступал в марте. Об этом не находим прямых письменных указаний, но есть косвенные свидетельства. События сотворения мира, воплощения, смерти и воскресения Сына Божия писатели Церкви полагают в марте. Подтверждение находим в Следованной Псалтири.
Церковное же новолетие праздновалось 1 сентября. С XII в. имеются сведения о праздновании этого дня крестным ходом, во время которого архиерей читал Евангелие. О правильном исполнении этого последования Сарайский епископ Феогност в 1276 г. получил разъяснение из Константинополя.

В 1492 г. Московский Собор под председательством митрополита Зосимы узаконил перенесение гражданского Нового года также на 1 сентября. Это изменение было утверждено и великим князем Иоанном III Васильевичем. Таким образом, круг гражданского года соединился с церковным.
Богослужение, совершавшееся на Руси 1 сентября, называлось действом нового лета или чином летопроводства, а также чином многолетия, действом многолетнего здравия и действом летоначатца. Самый день Нового года назывался летопроводством, летопрошением, прошением лета, а преподобный Симеон, чья память совершается в этой день,– летопроводцем.
Как пишет Г. Георгиевский, торжества в этот день совершались не только в Москве, Киеве и Новгороде, но и по всей Руси, особенно в соборных храмах и монастырях.

В Москве празднование совершалось с особой пышностью и происходило на Соборной или Ивановской площади, напротив Красного крыльца. Для этого посреди площади устраивался обширный помост, огороженный кругом точеными решетками, расписанными разными красками и устланный турецкими и персидскими коврами.
С восточной стороны на помосте устанавливали три аналоя с серебряными подсвечниками перед ними и стол для водосвятного сосуда. На одном из аналоев полагали образ преподобного Симеона.
С западной стороны на помосте устраивали два особых места: одно для царя, обитое бархатом и парчой, а другое, покрытое персидским ковром, – для Патриарха.
Впоследствии, к концу XVII в. для царя ставили некое подобие трона, резное, вызолоченное и расписанное красками, по внешнему виду напоминающее видом пятиглавый храм. Главы были сделаны из слюды, прозрачные, и украшены наверху золочеными орлами.

Начиналось действо обыкновенно часу в десятом утра.
После облачения и каждения престола Патриарх совершал первую часть священнодействия в соборе. Она состояла из мирной ектений и двух молитв, одна из которых читалась с главопреклонением. Затем, при пении тропаря Новому году. Служба продолжалась вне собора, перед его западными дверями, куда Первосвятитель выходил при пении покаянных тропарей и молитвы «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа».
Далее следовала третья, самая торжественная часть действа.

При пении стихир Новому году Патриарх торжественно шел от Успенского собора на площадь к приготовленному для него месту. Ему предшествовало крестным ходом многочисленное духовенство (до 400 священников) в богато украшенных облачениях, с крестами и чудотворными иконами.
В это время с колокольни Ивана Великого раздавался звон во все колокола. Из дворца на паперть Благовещенского собора прибывало другое величественное шествие – царь со всей его свитой. Взойдя на помост, государь прикладывался к Евангелию и чудотворным иконам на помосте и принимал благословение от Патриарха, который вопрошал государя о его здоровье.
Когда царь и Патриарх становились на своих местах, звон прекращался. Духовные власти, а вслед за ними бояре и вся свита государева подходили по двое, кланялись царю и Патриарху и устанавливались по правую и левую сторону. Кругом помоста на Соборной площади были отведены места для иноземных послов, чиновников, а также приезжих посланцев из отдаленных областей, например, с Дона или из Запорожья.
Тут же ратным строем стояли стрельцы в цветном платье, со знаменами, барабанами и ружьями. Повсюду вокруг, даже на крышах соборов стоял народ.

Далее начиналось пение 73-го псалма и Патриарх осенял Крестом на четыре стороны. Во время чтения паремий соборный протопоп с ключарем и диаконом совершали освящение воды до погружения Креста. За Апостолом следовало чтение Евангелия от Луки, того же, что читается и ныне на церковное новолетие.
Далее сам Патриарх совершал погружение Креста при пении «Спаси, Господи, люди Твоя». Освященной водой Первосвятитель омывал иконы и читал две молитвы (одну с главопреклонением).
Далее наступало время торжественных поздравлений. Обращаясь к царю, Патриарх осенял его Крестом и говорил: «Дай, Господи, вы государь и великий князь всея Руси самодержец здрав был со своею государевою царицей и великою княгиней, с нашею великою государыней и со своими государевыми благородными чады, с царевичем и царевнами и со своими государевыми богомольцы, с преосвященными митрополиты и архиепископы и епископы и с архимандриты и игумены и со всем освященным собором и с бояры, и с христолюбивым воинством, и с доброхоты, и со всеми православными христианы. Здравствуй, царь государь, нынешний год и впредь идущия многия лета в род и во веки».
Царь благодарил, а Патриарх окроплял его святой водой.

Далее наступал момент всенародного поздравления царя и Патриарха. По окончании речей все военачальники, войско и весь народ – все в одно мгновение ока били челом до земли, трогательно показывая благоговейное почтение к государю и Первосвятителю.
Царь также поздравлял всех окружающих и народ, на что в ответ звучало: «Здравствуй на многая лета, государь!».
Приложившись к Кресту и иконам, царь вместе со свитой отправлялся в Благовещенский собор на Божественную литургию, а Патриарх возвращался в Успенский собор, где заканчивал последнюю часть новогоднего богослужения.

Таким образом церковно-государственное празднование Нового года совершалось вплоть до конца XVII в.


